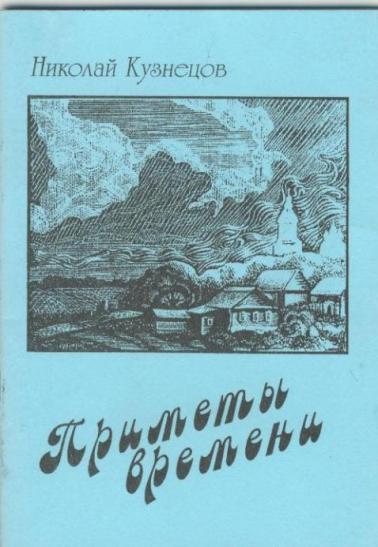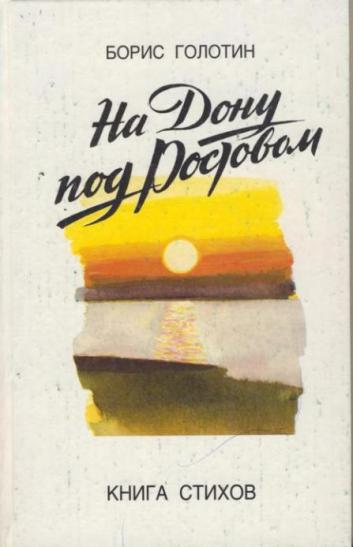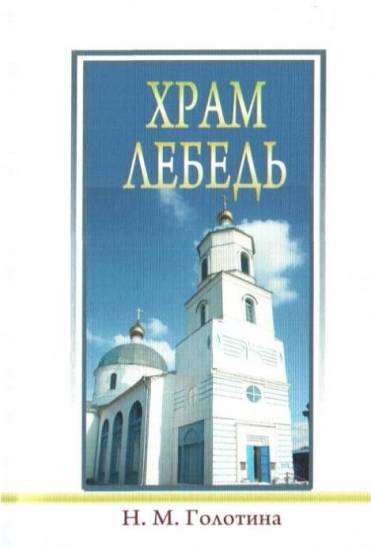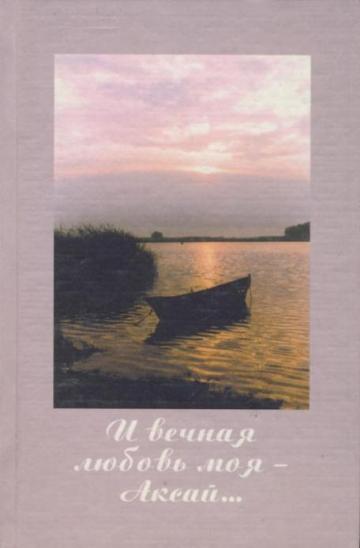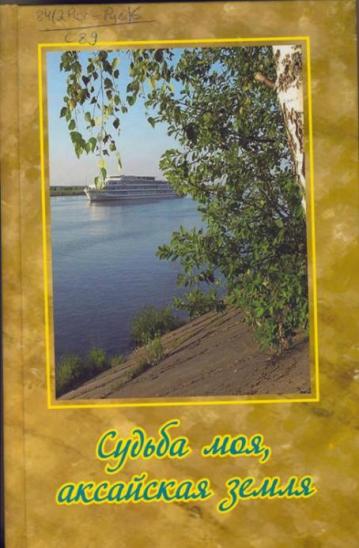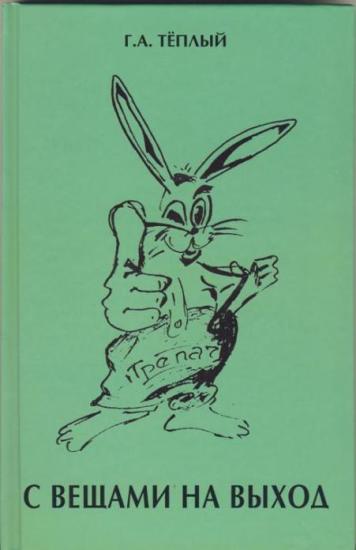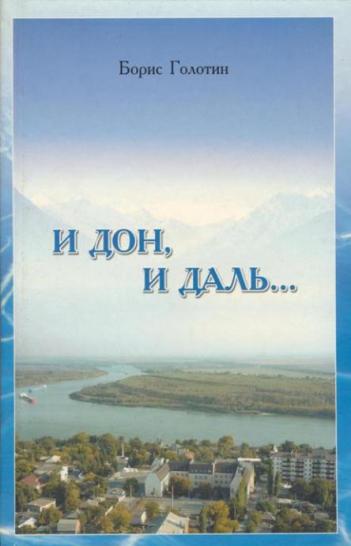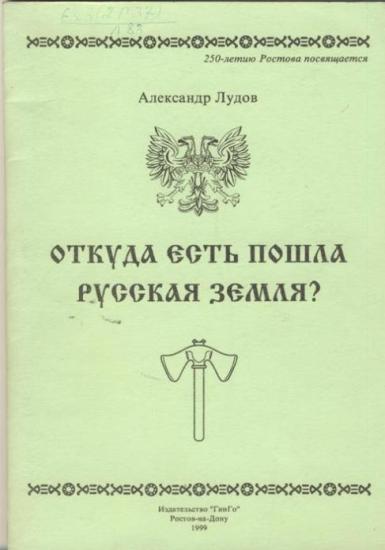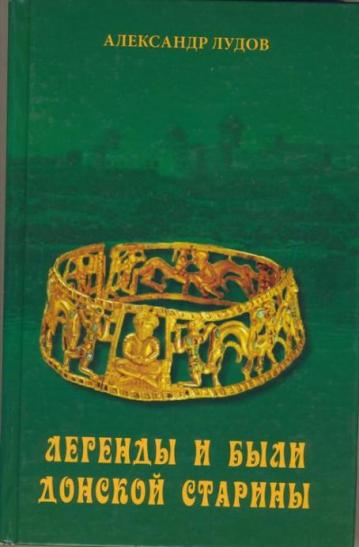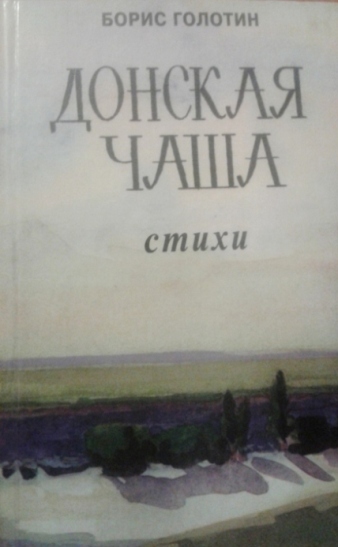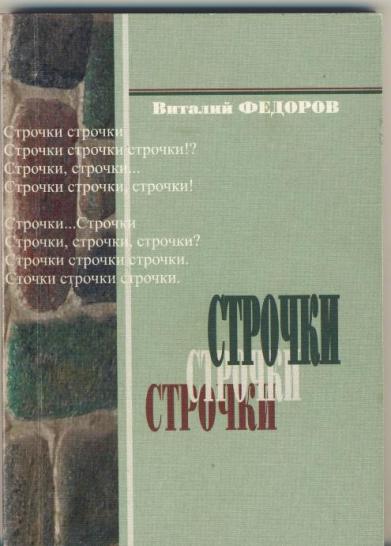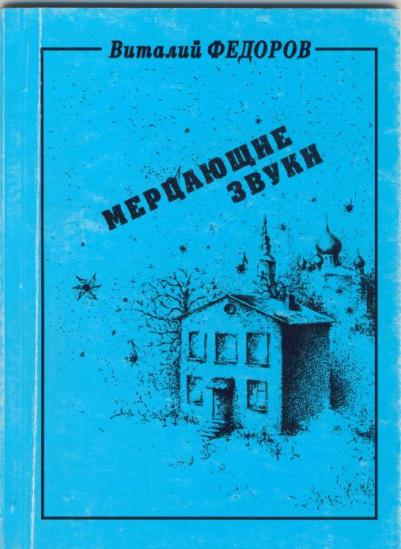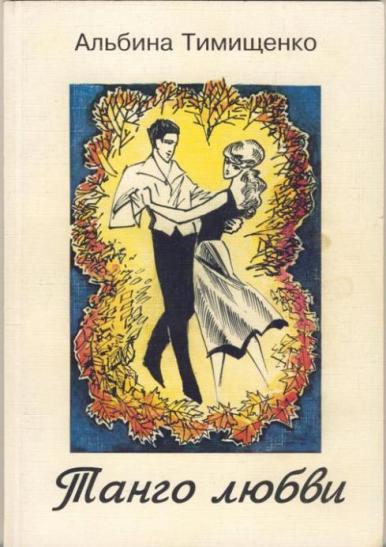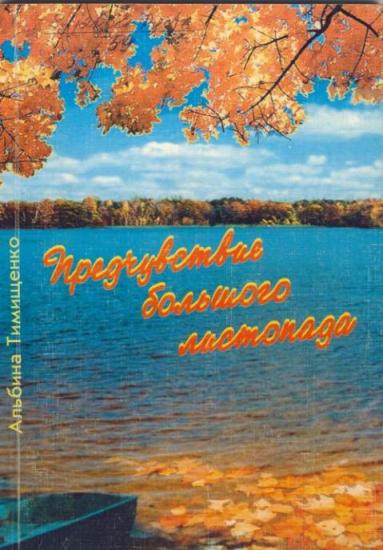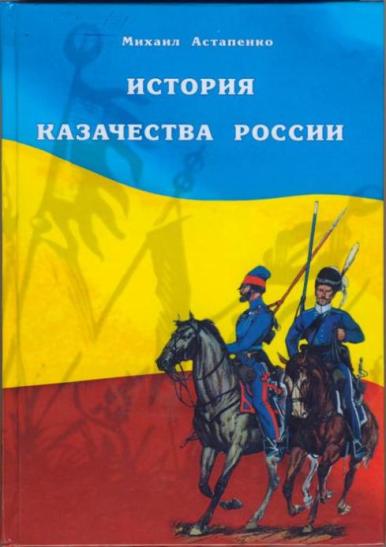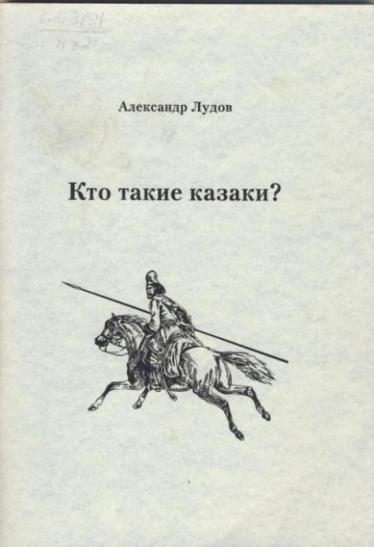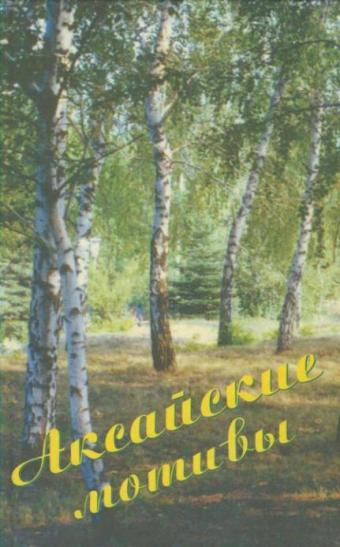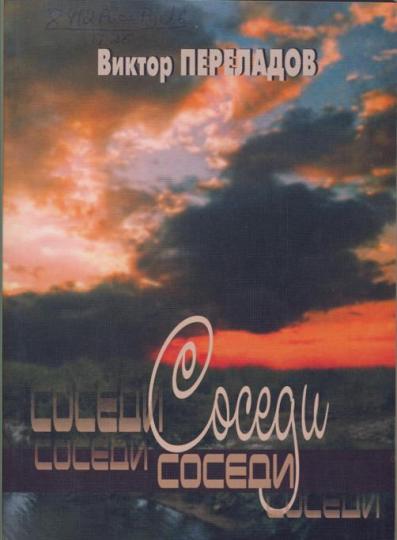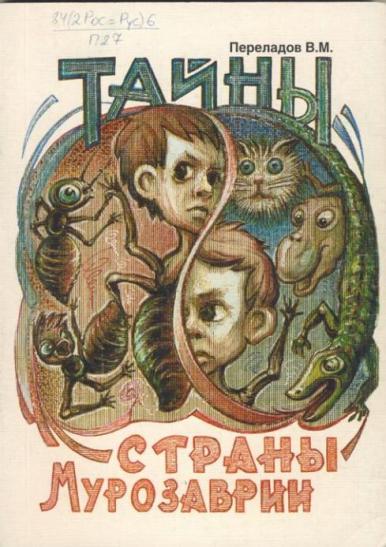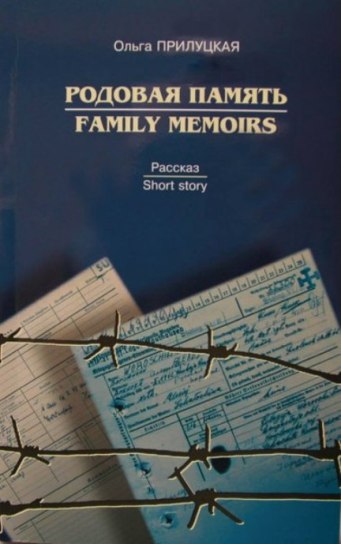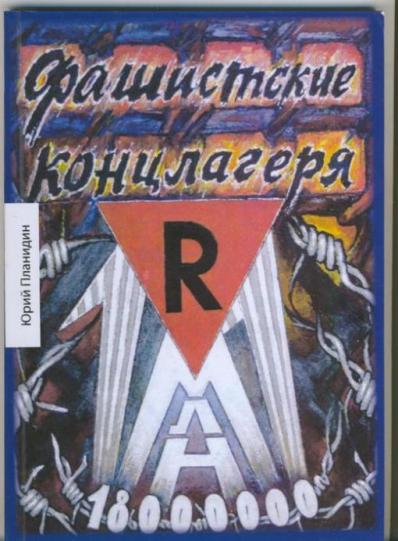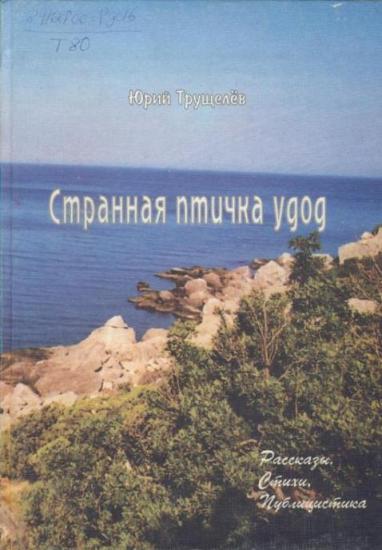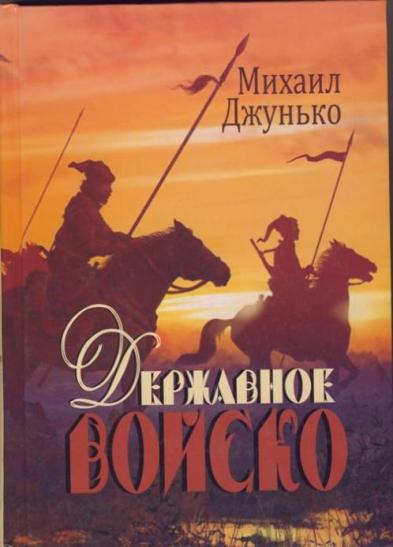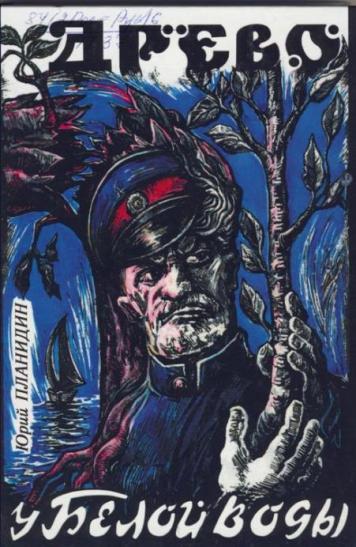Дорогие читатели! Политическая партия «Справедливая Россия» подвела итоги Международного конкурса "История Великой Победы в истории семьи", посвященного 70-летию со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 70-летию окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Году литературы в России.
В завершении мероприятия победителям и участникам Международного конкурса были вручены дипломы и памятные подарки из рук депутата Госдумы Михаила Емельянова.
С большой радостью и гордостью сообщаем, что одним из победителей стал наш земляк, поэт Юрий Трущелев, который участвовал в номинации "История семьи в художественном произведении".

Предлагаем к прочтению две конкурсные работы.
"ГОРБУШКА"
Светлой памяти отца моего В.Я. Трущелёва
1.
Когда постоянно хочется есть, вспоминать о еде нельзя, лучше постараться думать о чём-то постороннем. Васька Журавель это и сам понимал. Но только так, нутром, не словами. А Тарас Григорьевич Нечипорук – фельдшер санитарного барака – сказал прямо: «Думать, Василь, оно бы не беда, да ведь трэба над своею думкою власть иметь. А голодная дума сама норовит тебе волю диктовать: найди! укради! Ну, положим, красть ты – деревенский хлопец, посовестишься. А ведь и рыться в кухонных отбросах – верная погибель через кровавый понос».
Ничипорук был земляк Василия Журавлёва, тоже из Ростовской области, только с хутора Свободный Багаевского района. Ему было уже за сорок, попал в лагерь в 38-м, по «вредительской» статье. Больше Васька о нём ничего не знал, но этот кряжистый с круглой плешью на макушке мужик был влиятельным по лагерным меркам зэком. Раз в месяц – не чаще, но и не реже – фельдшер Ничипорук давал своему земляку освобождение от работ. На один день. На больший срок его полномочия не распространялись. Но даже сутки свободы от каторжного труда дорогого стоили. Особенно это было ценно в первую зиму, когда зэк Журавлёв – статья 58-я, пункты 10 (измена родине) и 11(замышленная группой лиц) – получил разнарядку на лесоповал. Да и потом, на погрузке кругляка в вагоны, тоже была каторга. Очень тяжело физически, а чуть зазеваешься – искалечит за будь здоров!
Прибить насмерть или искалечить лесиной могло и на просеке. Но чаще на зимнем лесоповале другое лихо выкашивало людей. Особенно в межсезонье. Полазишь, по пояс проваливаясь в волглые от воды сугробы, а сушиться негде. Сгоришь в неделю – стоит только простудиться. Даже самые железные зэки, долго там не выдерживали. Ваську оттуда выдернул Иван Пильщиков – вологодский мужик, в деревне которого всё мужское население уходило на отхожий промысел – избы людям ставить. Лагерный пункт тогда расширялся, требовался брус для собственного строительства. А мощности лесопильного завода работали только для фронта. И технорук зоны (если по нашим меркам – главный инженер) нашёл выход: собрал специалистов по ручному распилу брёвен. Пильщикову приходилось работать на лесоповале с Василием в паре, вот он и назвал его.
Ох, и ругал же Васька в первые дни своего благодетеля. А тот отшучивался. «Плечи болят? Ну, Васька, от этого ещё никто не помер. Ты, главное, на себя тяни». И действительно, скоро Васька обвыкся. Прав был неразговорчивый и жилистый Иван: от лучковой пилы грыжу не наживёшь. Васька стоял внизу, под козлами, на которых лежало бревно, а старший и по возрасту и по опыту Пильщиков – наверху. На Ваську всё время сыпались опилки, зато за срез, его ровную линию, ответственность была на верховом. Да и тянуть вверх было тяжелее. За три с половиной месяца Василий окреп. Кормили распиловщиков по усиленной норме – технорук постарался. Он нужных людей берёг. Сам был из заключённых, ещё довоенной посадки, какой-нибудь «троцкист» или «вредитель», но авторитет имел в лагере огромный. На нём была организация производства, от его решений зависела не только кормёжка, а значит, и судьба всех зэков, но и карьера, да и сама жизнь, лагерного начальства. Потому как за невыполнение плана в войну могли поставить к стенке любого, вплоть до начальника лагпункта.
Жаль, что работа эта так скоро закончилась, и Васька попал на погрузку леса в вагоны. Погрузка, конечно, не лесоповал, да и дело было уже летом 1944 года, но бугор в их бригаде попался уж очень сволочной. Собственно, все бригадиры были не ангелы. Им всем надо как-то изворачиваться, чтобы норму бригада отработала. А в каждой бригаде были блатные, которые, если и выходили на объект, то только для видимости. На лесоповале, например, такой блатняк из уголовников «не западло» считал только готовые сучья в костёр подбрасывать. Да и то, если ему это в охотку было. А его норма выработки на бригаду ложилась. Да, кабы один такой!
В общем, и бугру, конечно, житьё не мёд. Но место считалось хлебным. Пайку – свои шестьсот грамм чернушки, коли вышел на работу, – получишь. Но во власти бригадира дать тебе или не дать так называемое «премблюдо». Чаще всего это была запеканка из каши, слегка поджаренная, только бы можно резать деревянным ножом на квадратики граммов по 150. Бугор мог их выдать, если у тебя не было никаких нарушений в течение двенадцати рабочих часов, целых две штуки. А это было хорошим стимулом для молодого вечно голодного организма. Но за премблюдо надо было не просто пахать, а ещё и оказаться, по мнению бугра, среди лучших.
Васька Журавель был тогда ещё салагой и не знал, что большая пайка, по сути накатанная дорога на кладбище. Ведь организм привыкает к любому (до определённых пределов, конечно) количеству пищи. И гораздо выгоднее для твоего же здоровья съедать чуть меньше, но и со значительно меньшим расходом жизненной энергии. Так что и премблюдо и прочие режимные «пряники» гробили зэка не хуже иного кнута. Да разве ж это просчитаешь в двадцать лет и с образованием в неполных пять классов.
2.
Теперь Василий Журавлёв был уже опытным заключённым, да только в эту зиму 1947 года мало было любого опыта. Зэки мёрли, как мухи. И без того голодный зэковский паёк стал совсем скудным. В хлеб подмешивали всякую дрянь. Кто говорил, отруби, а кто – полову. Баланду давали совсем жидкую, и то – картошку почти не увидишь. Мёрзлая свёкла да капуста. И на воле, как писали Ваське из дому – из степной безводной деревни, что в Сальских степях, тоже было голодно. Предыдущий год оказался неурожайным по всей стране. В его родной Журавлёвке от голода не умирали, но и послать что-то существенное не в силах были. Главное, хоть сами все живы. Брат Володя ушёл в 43-м на фронт, а теперь служил срочную где-то под Москвой. От Унжлага, что в Горьковской области, рукой подать. Да какие уж тут свидания. Дома отец Яков Васильевич, мать Анна Васильевна и сёстры: Надя, Поля и Маша – ещё школьницы. А вот, он – Василий Яковлевич Журавлёв, бывший красноармеец 247 отдельной разведроты 203 стрелковой дивизии – «изменник родины». Десять лет по приговору военного трибунала. Благодарить должен, что не расстреляли, дали возможность искупить преступление честным трудом.
Хотя с того приговора ещё и пяти лет не прошло, но Васька плохо помнил подробности. Да что удивляться-то – как ещё с ума не сошёл от такого обвинения?! Свалился весь этот ужас на него в одночасье: пришёл в штаб дивизии со срочным пакетом, такое часто бывало, а его арестовали.
Это было в излучине Дона и Волги, где, как не весело шутили местные тётки, подавая им воды напиться, один петух на три области кричит: Воронежскую, Ростовскую и Сталинградскую. Василий к тому времени уже год был красноармейцем. Когда призвали, ему было 18 лет. Впрочем, точного дня рождения он не знал. Мать говорила: «в жнитво», значит летом. Хоть год помнила – 1923-й. Володька, младший брат – 25-го, сестры ещё младше. Не мудрено, что учиться некогда было. Особенно, когда в 1937 году забрали отца – кладовщика колхозного тока. Считалось, что за недостачу зерна. Но Василий слышал от мужиков в деревне, что его отец не согласился подписать какие-то липовые бумаги, вот председатель колхоза с ним и поквитался. Отца отпустили через одиннадцать месяцев, но в школу Васька больше не вернулся. Работал в колхозе, куда пошлют. Последнее время даже прицепщиком на тракторе. А когда началась война, и немец подходил к Ростову, послали на рытьё укреплений на подступах к городу. Оттуда забрали в начале осени – теперь скот колхозный угонять в эвакуацию. Пробыл Васька в Калмыкии недолго. Их, ребят 1923 года рождения, мобилизовали в Красную Армию. Это когда Ростов в первый раз немец взял. Или тогда он уже был в учебном полку в Усть-Лабинской?
Мысли у Васьки путались. Да собственно, он и не стремился вспомнить всё последовательно. В Калмыкии было хорошо. Только один раз страху натерпелись, когда немецкий самолёт-разведчик обстрелял стадо. Правда, бил он с большой высоты и продолжалось это недолго. Долго собирали потом разбежавшуюся скотину по степи.
По настоящему страшно было Ваське, когда узнал по прибытии на фронт, что попал в разведроту дивизии. Ходить к немцам в тыл! Да у него от одной мысли такой волосы, которых не было, дыбом вставали. А оказалось – жить можно. Даже наоборот: жутко – это когда пехота идёт в атаку. Открыто, белым днём, на вражьи пулемёты. А разведчики уходили через линию фронта скрытно. Да ещё им проходы в минных полях сапёры заранее проложат. И место вылазки командир загодя подберёт, просчитав все варианты отхода в случае неудачи. А во время вылазки где-нибудь поблизости ещё и отвлекающую перестрелку устроят. Так что, ходил Васька в поиск не сказать, чтобы с удовольствием, но и без трепета лишнего. Тем более, лейтенант их взводный – Алексей Заичкин – был, хотя и молодой, но уже понюхавший пороху. В поиске никому на рожон лезть не приказывал. Если впереди скирда, в которой может быть немецкий пост охранения, Алексей спрашивал: «Кто со мной?». И пахал брюхом землю на пару с добровольцем. Но чаще на такое дело вызывался Тимофей Купцов – тридцатилетний сибиряк, профессиональный охотник. Он и часового снимал одним ударом финки. А если нужен живой, так отключит аккуратно, что немец очухается уже связанным и с кляпом во рту. Был ещё во взводе Антон Савченко – бывший босяк-беспризорник, тоже отчаянный. Но лейтенант его частенько придерживал, потому что Антон увлекался и мог дров наломать.
Вообще ребята у них подобрались хорошие. Василий быстро втянулся во фронтовой быт. Тем более, что на их участке на несколько недель установилось затишье. Прямо через реку были позиции итальянской армии. А «макаронники», как называли их бывалые фронтовики, воевали лениво. Дошло до того, что они повадились в речке рыбу ловить. Причём, наша пехота им в этом занятии не препятствовала, потому что и сами рыбкой баловались. Была как бы негласная договорённость: друг другу не мешать в пополнении котлового довольствия. К итальянцам фронтовики относились с презрительной снисходительностью и недоумением: чего их понесло за тысячи вёрст, в чужие края?! А первый убитый, которого Васька увидел на фронте не в горячке боя, был вообще испанец. Он лежал, навзничь, раскинув руки у степной дороги. Голубая фасонистая пилотка свалилась, и ветер шевелил чёрные, как смоль волосы. Молодой – Васькиных лет, не больше, лицо чисто выбритое, только бледное, и у виска еле заметное пятнышко – дырочка от осколка…
Итальянцев на позициях сменили немцы, и передышка закончилась. По настоящему жутко Ваське было только один раз. Они возвращались из поиска с «языком» – здоровенным фрицем, с которым все измучились за дорогу. Вроде бы вышли к условленному месту, но что-то, видимо, переменилось в обстановке. Группу накрыл ураганный обстрел реактивных снарядов из собственных «катюш». Как остался жив, Васька не помнит. Его контузило, с той поры плохо слышит. По первости и глаз левый не видел. Но глаз через неделю «прозрел», и Васька сбежал из полевого госпиталя в свою роту. Там он узнал, сто немца-языка сразу накрыло, погибли ещё двое ребят из взвода. С той поры на разведроту нашла какая-то полоса невезения.
3.
Уже потом, на тюремных нарах да в разговорах с друзьями здесь, в лагере, Василий кое-как разобрался, что же произошло в их роте осенью 1942 года. Да и то, на уровне догадок и предположений. А тогда он слышал, что ротный – капитан Орешкин, не ладит с начальником разведки дивизии майором Фельдманом. Какая кошка между офицерами пробежала, в роте не знали. Говорили невнятно, что майор, якобы, за свою должность боится – как бы молодой и удачливый капитан не обошёл. Как бы то ни было, противостояние это до поры наружу не выходило. Болтали всякое, но тот же лейтенант Заичкин при случае эти разговоры жёстко пресекал. В роте тем временем случилось «ЧП». Из поиска не вернулись подряд две группы по шесть человек. Ходили не далеко и без офицеров. И если по первой группе были все признаки (наблюдатели засекли ночную перестрелку в немецком тылу), что нарвалась на боевое охранение и была частью перебита, частью взята в плен, то вторая – как сквозь землю провалилась. Майор не нашёл ничего умнее, как послать всю роту белым днём в так называемую «разведку боем».
Вы, мол, там «ура» кричите, а пока вас перестреляют, мы немецкие огневые точки засечём. Примерно в таком духе, только на матерном языке выкрикнул из строя Антон Савченко, когда майор в присутствии командира поставил роте боевую задачу. Абсурдность приказа была ясна даже самому неопытному салажёнку. Но, как раз незадолго до этого в частях зачитали приказ верховного главнокомандующего (директива 322: «Ни шагу назад!»), в котором давалось право за невыполнение приказа расстреливать на месте. Потому и молчал капитан Орешкин. Майор достал из кобуры пистолет «ТТ» и сказал:
– Красноармеец Савченко! Выйти из строя!
Антон вышел и сразу же перекинул автомат «ППШ» из-за спины на грудь: – Стреляй, сука! Я в предсмертных судоргах сумею нажать на курок. Падла буду, не промахнусь!
– Отставить! – прохрипел капитан Орешкин. – Савченко, стать в строй! Рота, слушай мою команду! Объявляю задачу: захватить переднюю линию немецких окопов на гребне холма Могильный, взять языка и продержаться до темноты.
Майор – бледный, не попадая пистолетом в кобуру, ушёл к штабной машине. Капитан подозвал командиров взводов и уточнил задачу. Гнать людей на пулемёты он и не собирался. На дальних подступах к немецким окопам в «мёртвой зоне» была ложбинка, густо поросшая кустарником. Вот в ней, недоступная обстрелу, что с немецкой, что с нашей стороны, пролежала рота до темноты. Фрицы поначалу накрыли кустарник миномётным огнём, но рота ползла широкой цепью, и немцам быстро надоело класть мины вслепую. Фашисты решили выждать, когда рота пойдёт дальше. Орешкин времени даром не терял. По балочке лейтенант Заичкин с Купцовым и Савенко, и в разных местах ещё четыре группы, подобрались вплотную к немецким окопам. Когда у фрицев подошло время ужина, четыре штурмовые группы забросали окопы гранатами и открыли кинжальный огонь из пулемётов Дегтярёва. Группа Заичкина во время переполоха проскочила первую линию окопов, не открывая огня, скрытно. А уже в тылу им повезло: прихватили какого-то штабного офицера с кожаным портфелем, набитым документами. Уходил лейтенант с разведчиками вообще в стороне от холма, по которому всю ночь молотила и наша и немецкая артиллерия. Добрались в расположение роты к рассвету. Уж очень боялись, что языка по закону подлости каким шальным осколком накроет.
Орешкин вывел роту сразу после короткой диверсии. Рота как будто растворилась в ночи. Выбрались, учитывая обстоятельства, практически без потерь: одного бойца разорвало миной – там, в лощине, ещё днём и схоронили, двоих тяжело раненых вынесли на плащпалатках и уже отправили в санбат. У остальных – царапины. Ваське в том рейде тоже зацепило руку. Но легко, даже в санбат не пошёл. Приволокли разведчики и языка, но незавидного. Какой-то перепуганный пожилой интендант. Не то сапожник, не то портной. Капитан обрадовался Заичкину, как родному. За пленного обнял всех троих. Только сказал Антону Савченко: «Целый? Жаль. Тебе б лучше бы сейчас в санбате отлежаться».
На удивленье, Савченко никуда не вызывали. И вообще, казалось, происшествие забылось. Ваську, правда, вызвали в штаб дивизии, якобы, как молодого бойца, поговорить о вступлении в комсомол. Заодно и в особый отдел велели зайти. Там уже майор Фельдман сидел. Говорили, сразу и не поймёшь, о чём. То, откуда родом, давно ли письма из дому получал. А когда узнали, что семья осталась на оккупированной территории, вроде даже посочувствовали. А потом майор начал о настроениях в роте спрашивать. Интересовался, кто и что говорит. Васька и вообще молчун, а тут совсем растерялся. Особист ободрил: «Ты не робей, это дело между нами останется. Подумай, а потом придёшь. Хорошо?». Васька кивнул. Лишь бы отпустили скорей.
4.
Когда Васька оказался со скрученными телефонным проводом за спиной руками в яме под нудным октябрьским дождём, он многое за ночь передумал. Сначала, правда, всё часового звал, пытался усовестить его. Даже упрашивал, хоть это и было не в характере. В ответ – либо молчание, либо короткое: «Не положено». Потом утих и беззвучно, стыдясь даже самого себя, плакал от обиды и безысходности. Лечь в яме он не мог. И площадь мала, и постепенно воды собралось. Пробовал задремать, прислонившись спиной к стене, но по ней ручейками стекала холодная жижа. На какое-то время затихал, упираясь в стену лбом. По лицу стекала грязь, но холодная – она снимала жар, и в воспалённом сознании мелькнула жалость к себе. Примерещилось, что яма наполнилась водой, он – красноармеец Васька Журавлёв захлебнулся. И за это судят следователя-особиста, который придумал для него эту пытку.
На какое-то мгновение Ваське стало так хорошо и сладко. Он почувствовал, как чья-то рука вытирает грязь с его лба. Не мамина, а слабая детская. И голос Маняши, младшей сестры: «Вася, не умирай! Не умирай, Васятка!». Только Маша называла его так, остальные – Васька, изредка Василий. Он и сам, когда знакомился, представлялся: «Васька».
Больше до самого утра Василий не терял сознания. Скрученные проводом кисти рук задеревенели, стали чужими. Дождь кончился, в яму заглянула равнодушная луна. Он не знал, сколько времени осталось до рассвета. Спрашивать у часового не стал. «Кто знает, что принесёт этот рассвет. Могут ведь и расстрелять». Только это уже не пугало его. Начал вспоминать, что можно бы использовать, чтобы убить следователя, когда снова поведут в землянку на допрос. А поведут – это точно. Васька ведь ничего не подписал. Ни против себя, ни против товарищей.
Теперь он понял, на какие «курсы снайперов» послали неделю назад Купцова. И зачем ещё вчера в штаб вызвали лейтенанта Заичкина с Антоном Савченко. Все странности последних дней прояснились. Ребята тоже где-то здесь. И они не сдались – иначе его, Ваську, не мучили бы, а просто расстреляли.
Простота и чудовищность этой истины навалилась на Ваську такой тяжестью, будто рухнула подмытая дождём стена ямы. Хотелось кричать на весь белый свет. Хотелось молить Бога, в которого Ваську отучили верить в школе. Даже ещё не в школе. Они сами – горстка голопузых пацанов, однажды, подзадоривая друг друга, кричали в небо проклятия, материли небо, как могли. И оно не разверзлось, не обрушилось градом камней или огненной лавой. От жути сводило мошонки, а они кричали, выплёвывали ругательства…
Может, поэтому Васька теперь задушил в себе крик? Потому что вспомнил тот поросший бурьяном двор на заброшенной усадьбе, где подзадоренные старшими пацанами они распрощались с Богом? Как бы то ни было, но он молчал. Он всё равно не смирился со своей участью. Вспомнил, как в 38-м отца вытащил из Забайкальского лагеря дядя Алексей. Ему ведь тоже никто не верил, а вот случилось. Но сейчас дядя Алексей сам на фронте, где-то под Москвой. Вряд ли у Василя будет возможность написать ему. Но всё-таки, раз дядя Алексей смог добиться справедливости, значит, есть правда на земле. Надо только стоять на своём. Надо держаться до последнего.
На следующем допросе Ваську встретил другой следователь. В отличие от полноватого брюнета лет тридцати, который орал и запугивал Журавлёва в прошлый раз, а не добившись своего, бросил на ночь в яму, это был мужчина в годах с совершенно голым черепом. Говорил он тихо, но внятно, подолгу держал паузу, хмурясь и будто прислушиваясь к чему-то внутри своего организма. Васька подумал, что у этого мужика, наверно, язва. Накопленная за ночь агрессия куда-то испарилась. Виной тому был, быть может, сон. В тёплой землянке, на куче соломы. И руки ему развязали сразу же, как подняли из ямы. Его вообще целый день не трогали, только давали еду. Как-то странно даже: если надеялись сломать предыдущим кошмаром, тогда надо было дожать, не давая очухаться. А так…
– Жалко мне тебя, Журавлев, – следователь почему-то делал ударение на втором слоге фамилии. – Тебя ведь расстреляют. А что делать? Если ты ничего признать не хочешь, значит, ты нераскаявшийся враг. Ну, положим, лично ты переходить на сторону фашистов не собирался, могу поверить. Но зачем ты так упорно других покрываешь?! Кто он тебе, этот лейтенант Заикин? А Купцов? А Савченко? Скажи, ведь угрожал Савченко убить майора Фельдмана? Это даже сам Савченко не отрицает, а ты… Эх, Вася! А дома ведь мать, отец сыночка ждут. Положим, я тебе поверю, что ты заблудился, тебя одурачили, втянули, пользуясь неопытностью, в этот преступный сговор? Но, скажи, как я могу тебе помочь, если ты очевидное отрицаешь! Ведь нашли у тебя немецкие листовки? Нашли. Ах! Ты в них махорку заворачивал! Умно, брат, ничего не скажешь. Да это же лишний довод к твоей изощрённости и опытности, как врага! А ты признай, ну, хотя бы эти листовки: виноват, мол, бес попутал. Тогда и я для тебя что-то сделать смогу.
Не сразу, но признал Васька, что читал и хранил немецкие листовки, в которых писали о расстрелянных ещё перед войной советских маршалах, о том, что Гитлер отменит колхозы и вернёт, отнятое большевиками. Признал и то, что хвалил немецкую технику. Оказывается, и это – преступление против Родины. Только протокол с признанием замысла в следующем поиске перейти на сторону немцев, Васька упорно не подписывал. И ничего не подписывал против товарищей.
«Добрый» следователь начинал терять терпение. Он давал Василию читать протоколы, с показаниями против него, Журавлёва. Но и это не помогало. О том, что это игра в «злого» и «доброго» следователя, Васька уже догадался. Он даже хотел снова попасть к тому – молодому, скорому на расправу. Боялся, что тихоня его окончательно запутает. Но этого не произошло, потому что 26 октября 1942 года вместо допроса, он предстал перед «тройкой» военного трибунала. Здесь его вообще никто не слушал и ни о чём, кроме протокольных формальностей, не спрашивал.
5.
«Десять лет лишения свободы с поражением в правах на три года». Боевой путь красноармейца Журавлёва, начатый 16 октября 1941 года, закончился. Начались этапы заключённого Журавлёва. Наверное, лишними оказались боец-разведчик и тринадцать его однополчан для Красной Армии в ту осень под Сталинградом. Чудно Ваське ещё и то было, что вроде, счёты сводили майор Фельдман с капитаном Орешкиным, а голова, не из простых, у одного лейтенанта Заичкина полетела. Только много позже, уже в лагере, его просветил один ушлый зэк. Мол, лейтенант – это пятно на мундир капитану, и крест на его карьере. Что ж, подумал Васька, для пятна чужой крови, видать, не жалко. Ещё в день трибунала Васька узнал, что четверых: Заичкина, Савченко, Купцова и Петрова (как ни силился, не смог вспомнить такого бойца в своей роте) – приговорили к расстрелу. Купцова – заочно, сбежал сибиряк из-под стражи. А десятерым, в том числе и Ваське, предстояло заслужить прощение Родины ударным трудом на её благо. Да только целых семь месяцев потребовалось советской пенитенциарной системе, для того, чтобы доставить заключённого Журавлёва к месту отбытия наказания в Унжлаг Горьковской области. Конечно, расстояние в семьсот километров от Сталинграда до Горького – это вам не хухры-мухры. Васька кормил клопов на нарах Саратовского централа, мёрз в Балашовской пересыльной тюрьме. Увидел жизнь уркаганов и воров в законе, для которых будто и не было никакой войны.
Новый пахан их камеры в Саратове, которого тоже звали Василием, даже сказал ему как-то: «Тебе бы, тёзка, вором стать. Уж больно личность у тебя располагающая к доверию. А таким настоящий вор и должен быть. Хочешь, научу?». Смеялся или нет, кто знает. Но в эту камеру он вселился, как потом выяснилось, целенаправленно, чтобы разобраться с самозванцем. Объявившим себя паханом, бородатым мордвином. Двое суток Мордвин и Васька-вор резались в карты под интерес. И не просто, а, как говорили блатные, «до марочки». То есть, на кон ставилось всё, что представляет хоть какую-то ценность. Вплоть до марочки – носового платка. Игра заканчивается тогда, когда проигравшему нечего больше ставить. Мордвин, проиграв всё, поставил на кон бороду. И проиграл. По условию её надо было сбрить, но не у парикмахера, к которому водили раз в десять дней, а прямо в камере до следующего утра.
Мордвин и его шестёрки затеяли драку во время раздачи баланды. Всё для того, чтобы отломать кусок стального держака от черпака баландера. Разнимать дерущихся вызвали дежурных надзирателей. Те раздавали тумаки, не разбирая, кто прав, кто виноват. Исчезновения кусочка вожделенной стали не заметили. Всю ночь Мордвин точил этот обломок о цементный пол и брился. Наутро изумлённые надзиратели опять ставили камеру на уши. Искали бритву. Не нашли, потому что источенный донельзя огрызок был утоплен в параше. Виновнику переполоха дали десять дней карцера. По возвращении он уже не был паханом. Но на этом история с Мордвином не кончилась. Всё-таки, заколол его Васька-вор заточкой. Видимо, для того и послан был «на хату» воровским советом. Насмотрелся Васька Журавлёв на блатняков и зарок сам себе дал: держаться от них подальше. К тому же, и в тюрьме, и тем более, в лагере простых мужиков: работяг и военных – всегда было больше, чем шпаны.
Первые дни в лагере Васька всё приглядывался, как убежать. Не просто мечтал, а был твёрдо уверен, что совершит побег. «Я – разведчик! Неужто я эту шушваль конвойную не обхитрю?». Но думки свои при себе держал. И знал, что второй попытки может и не быть, поэтому нужно всё учесть, до мелочей. Не бежать, очертя голову, а подготовиться. Самым «узким» местом были продукты. Нужен запас, чтобы отсидеться где-то в лесу, пока первая горячая волна поиска утихнет. Самое подходящее время для этого – конец лета, начало осени. Можно на подножном корму: ягодах и грибах – какое-то время продержаться. Только Васька – степной житель – не разбирался в них, да и в лесу плохо ориентировался. Бежать лучше из рабочей зоны, значит, туда надо натаскать продуктов. Только это хорошо рассуждать, а еды едва хватало, чтобы восстанавливать силы.
Пока Василий так примеривался и прикидывал, произошло сразу два побега. Первого – изодранного собаками и избитого до неузнаваемости – выставили в назидание перед зэковским строем через два дня. А второй беглец попортил кровушки лагерному начальству. Прошла целая неделя, потом вторая. Зэки уже прикидывали между собой, куда за это время можно было уйти. На семнадцатый день привели и этого. Даже не привели, протащили под руки перед строем. Оборванного, окровавленного, бесчувственного.
И тогда Васька впервые задумался: а куда бежать-то? Страна огромная, а ведь и некуда! Этого, второго беглеца, как Васька узнал впоследствии, сдали чекистам простые деревенские мужики. Просто так, как чужака подозрительного. Ну, может, на награду кто позарился. Да дело ведь даже и не в ней. В окрестных вокруг лагерей деревнях строгие насчёт беглых инструкции были. Не сдашь, сам сядешь. А лагеря – они ведь по всей стране. Где нет лагерей, там и люди не живут. Вся страна – большая зона. Не к немцу же, и вправду, бежать?!
А тут ещё сделал Васька по меркам опытных людей большую глупость. Письмо домой написал. Ещё в Балашове, когда узнал, что Ростов, а значит, и его родное село, освободили от фашистов. Глупость в том, что могли бы родители в суматохе ещё какое-то время получать деньги по его красноармейскому продатестату. Но душа-то не железная – изболелась: как они там, все ли живы?
Весточка из родного села добралась до Василия уже здесь, в лагере. Писала старшая сестра Надя под диктовку неграмотной матери. Все, слава Богу, живы и дом уцелел. Только Володю и отца сразу мобилизовали. Отца, правда, вернули вскорости по здоровью и возрасту. За письмом следом и посылочка небольшая: сухари, махорка, кусочек сала, семечки да сухофрукты. Уже жить стало чуточку легче. Эта весточка связала его с домом, протянулась в родные края живой ниточкой. Как зыбкая паутинка надежды, что и сам Васька когда-нибудь вернётся домой.
Вот тогда-то Васька и сделал в своих мозгах ревизию: бежать нельзя, нужно выжить и вернуться туда, где его ждут. А пока – работать. Не для Сталина и Берии, – для Родины, чтоб она одолела фашистов!
6.
Васькин ударный труд на благо Родины кончился схваткой с бригадиром на погрузке пиломатериалов в вагоны. Всему виной было пресловутое премблюдо. И ещё – Васькина нетерпимость к несправедливости.
Дело было так. По окончании смены помбригадира делил эту самую запеканку. Василий был твёрдо уверен, что они с напарником заработали две премиальных порции, но получили только по одной. Напарник смолчал, а Васька пошёл к бригадиру права качать. Он поначалу так и подумал, что это помощник самоуправствует, решил заныкать порции для своих. Но бугор – здоровенный бытовик, схлопотавший срок за убийство любовника жены перед самой войной, – сказал, что всё правильно. Работать лучше надо. Смотрел при этом на Ваську, как на досадное недоразумение. Вот это и завело окончательно. Не успел бригадир отвернуться, как Журавлёв со словами: «Подавись, сволочь!» с такой силой швырнул в него брикетиком каши, что она расползлась по лицу.
Порыв, конечно, безумный, совершенно бессмысленный, но рассуждать было некогда. Уже в следующую секунду Васька проскочил прямо перед паровозом, который шёл цеплять гружёные вагоны, и побежал по рабочей зоне в сторону лесопилки. Его бы, конечно, догнали и изувечили бригадирские шестёрки, но наудачу Васька наткнулся на технорука зоны. А тот, во-первых, вспомнил Ваську, как участника своего удачного проекта по ручной распиловке. А во-вторых, имел уже сведения о махинациях бригадира грузчиков. Это и спасло Василия. Технорук распорядился забрать бунтовщика на лесопилку.
– Куда я его? Он же ничего не умеет. – Попробовал возразить тамошний начальник литовец Ручис. Технорук глянул на худого испуганного Василия. Спросил: – С лошадью управишься? – Васька утвердительно кивнул.
Так стал Васька подвозить кругляк на пилораму, вывозить корьё и опилки. И работа полегче, и над душой никто не стоит. Попервости всё ждал бригадирской мести. Но тот, видимо, посчитал, что не стоит связываться с зэком, которому сам технорук покровительствует.
Теперь, когда голодная пайка не помогала уже восстанавливать расходуемую за день энергию, даже эта работа была Василию тяжела. Справка, выписанная с вечера Нечипоруком, давала ему право весь день пролежать в бараке. Да вот, не лежалось. Васька уже переделал кучу всякой мелочёвки по приведению в порядок своего обмундирования. Где подштопал, где латку наложил. Полежал немного на своих нижних нарах поверх одеяла, прямо в одежде – заснуть не смог. И тогда пошёл на улицу, побродить по жилой зоне. Может, на свежем воздухе не так голод будет мучить.
День выдался тёплый, градусов пять мороза, не больше. А на солнышке в затишных местах даже пригревало. Здесь и вправду, было лучше, чем в провонявшем от скученного жилья сотен мужиков бараке. Васька шёл по пустынной в этот рабочий день зоне без всякой определённой цели. Глаза привычно настороженно окидывали пространство между потемневшими от времени деревянными строениями, с крыш которых свисали сосульки. Хоть и лежала в кармане бушлата бумажка – освобождение от работ, но с надзирателями, а тем более, с начальником режима или опером, лишний раз встречаться не стоило.
Был бы Васька не такой доходной, пожалуй, и пошёл бы в сторону отдельно стоящих – навроде зоны внутри общей зоны – женских бараков. Туда похаживали все те, у кого или работа хлебная была, или из дому регулярно посылки богатые получали. Васька к этой категории не принадлежал. А всё равно, тянуло хоть издали взглянуть на особливый женский мир. На работе с женщинами ему тоже пересекаться не приходилось. Правда, был однажды случай, когда привёз на подводе в чурочную (так называли специальный сарай, где сушили чурки для машинных газогенераторов) заготовки. С разгрузкой вышла заминка. Оказывается, зэки сговорились с женщиной-заключённой, вот она их там и ублажала по очереди. Чтобы Васька не настучал, ему тоже предложили поучаствовать. Отказался. Потому что так явственно представил, скольких эта баба уже успела обслужить, что ему стало противно.
Сегодня ноги Ваську принесли в другой конец. Туда, где так густо пахло свежеиспечённым хлебом. Василий понимал, что эта слабость подстать хождению вокруг столовой. Сама пекарня была за забором, но от въезда до колючки предзонника – метров пятьдесят, не больше – была неогороженная дорога, по которой завозили муку и вывозили хлеб, потому что из лагерной пекарни отоваривался и вольный посёлок. Вот такое упущение допустили охранники. У Васьки, конечно, и мыслей никаких по этому поводу тогда не было. Просто прохаживался поблизости, вдыхал одурманивающий хлебный дух и сил не было уйти с этого маршрута. Он давно приметил около десятка доходяг, копошащихся возле деревянных ларей, в которые с кухни выносили картофельные очистки и овощные обрезки. Намётанный глаз с недоумением отметил в их числе двоих долговязых зэков. Явно не доходяг. Они только вид делали, что копаются. А сами то и дело поглядывали на въезд пекарни.
Всё произошло стремительно. Из пекарни выехала подвода с двумя немками из числа ссыльнопоселенцев. Они получили полагающийся им хлеб. Трёхкилограммовые буханки лежали в деревянном кузове подводы, укрытые пологом. Двое примеченных Василием зэков мгновенно метнулись к подводе и выхватили из-под полога по буханке. Одна из женщин кинулась за грабителями, а вторая, хлестнув лошадь, устремила подводу к предзоннику, дабы не растащили остальное. Первая немка сумела настичь зэка и орала во весь голос, вцепившись ему в бушлат. Он, спасая поживу, швырнул буханку вдогонку напарнику, но тот даже не оглянулся, скрывшись со своей добычей за угол столовой. Краюха развалилась во время полёта на две неравные части. Причём, большая – подовая часть – полетела вперёд, по ходу движения. А горбушка упала далеко в сторону, чуть ли не под ноги Василию.
Под Васькиным бушлатом она оказалась, кажется, раньше, чем он её схватил. У него ещё и достало выдержки не убегать, а с минуту стоять, будто сторонний наблюдатель, и смотреть, как на глазах возмущённой немки и неудачливого похитителя оставшуюся без верхушки буханку разодрала на куски стая доходяг.
Потом Васька медленно пошёл от места происшествия, ещё до конца не веря своему счастью. За спиной он слышал жалобные причитания зэка, которого не отпускала немка, и голоса подошедших ей на помощь надзирателей. Он с ужасом ждал окрика в спину, но, так и не услышав, скрылся из поля зрения за бараком культурно-воспитательной части (КВЧ), то есть, лагерного клуба. Только там, обессилено прислонившись спиной к стене и зыркая по сторонам, готовый в любую секунду сорваться с места Васька наконец-таки позволил себе положить в рот хороший кусочек хлебного мякиша.
7.
Горбушка была весом около восьмисот граммов. Васька второпях, почти ничего не ощущая, сжевал грамм двести. От напряжения всех душевных и физических сил его прошибла испарина. Теперь, кое-как успокоившись и осознав себя обладателем такого сокровища, Васька должен был решить, как им лучше распорядиться. Не в том смысле, чтобы куда-то припрятать остаток. На это самоограничение у него не хватило бы мужества. Надо было просто найти такое место, где можно продолжить есть хлеб. Только теперь уже, не торопясь, давая организму полностью ощутить хлебный вкус и блаженство насыщения. Поразмыслив, он отверг барак – не хотелось возвращаться в его затхлость. Да и чего ходить, когда можно сесть здесь, в КВЧ, взять для виду подшивку газет и есть потихоньку, не спеша, в относительно тёплом и обычно пустом помещении.
Васька так и поступил. Устроился за дальним столом, расположившись так, чтобы находиться вполоборота к заведующему КВЧ Давиду Смидовичу – грузному тбилисскому еврею с печальными тёмными глазами. Вроде бы в читальне было прохладно, но, может, яркое февральское солнце за окном и пережитое не так давно волнение, а может, наступившая наконец-таки сытость вкупе с царящей здесь тишиной, нагнали на Василия какую-то расслабленную полудрёму.
Откуда было знать Василию, что у клубаря недавно обнаружилась пропажа: его личная шестисотграммовая хлебная пайка да с десяток газетных номеров из подшивки. Хлеб Смидович приберёг, чтобы нанять кого-нибудь убраться в клубе. Он каждую неделю так делал, считая, что негоже самому заведующему мести и мыть полы. Ронять авторитет интеллигентного человека. Это дело принципа. Тем более, что желающие подработать всегда найдутся, а сам он посылки с воли получал исправно. Смидович, конечно, доложил о краже начальнику режима, но тот особого энтузиазма не проявил. Посоветовал на будущее рот не разевать. Давида Абрамовича, который и на воле руководил клубной работой, пользуясь в определённых кругах большим авторитетом, такое отношение покоробило. Но, что поделаешь, с начальником режима не подискутируешь. Обиду в оскорблённой душе он с того случая затаил, вот только выплеснуть её не на кого было. А тут – надо же! Какой-то зэк доходной, сидит, делает вид, что читает газету, а сам – не торопясь, как бы между прочим, чуть ли не лениво – жуёт, мерзкая душа, хлебушек. Где он его взял, когда после завтрака уже три часа прошло? И ведь прячется!
Смидович ещё раз покосился на разомлевшего Ваську, вышел на цыпочках из читальни и накинул на дверь щеколду. Теперь бы только надзирателя поскорей перехватить! Наудачу шёл поблизости Тарас Панасенко. Клубарь его ухватил под руку, по-быстрому в курс дела ввёл и потащил к клубу. Там, уже в сенях, знаками велел оставаться за дверью. Медлительный Панасенко пожал плечами, но шуму не поднял. И на том спасибо. «Вот же тупой хохол! Но, коли драка завяжется, сообразит, что делать» – успокоил себя Смидович и коршуном ринулся на задремавшего зэка.
– Ага! Вот он, хлеб! Гражданин надзиратель, сюда! Ко мне! Вяжи его, гада!
А Васька и не сопротивлялся. Чего уж теперь! Только покосился на остаток заветной горбушки. Там ещё граммов сто пятьдесят оставалось. Никак не меньше. Вздохнул тяжко и пошёл, куда велели. Флегматичный Панасенко даже тумаком задержанного не наградил. Да и то – перед кем выслуживаться? Начальник КВЧ – никакой с него корысти. Одна маета.
На улице Васька совсем расстроился. Что нечаянный праздник испортили – сам виноват! Да, кабы дело совсем худо не обернулось. Только карцера ему сейчас и не доставало. А вдруг немка на него покажет, как на вора?! Может, для неё зэки – все на одно лицо? Только Смидович гордо вышагивал впереди этой процессии, предвкушая, как «умоет» нерасторопного начальника режима.
И вот, когда до штабного барака было уже рукой подать, Васька увидел технорука Лучинского. Да, видно, в этот мартовский день удача была на стороне Василия Журавлёва. Ну, оплошал в читальне, с кем не бывает? Зато теперь он заорал так, что Смидович чуть было вещьдок, то есть, остатки горбушки злополучной, из рук от неожиданности не выронил.
– Изяслав Львович! – Теперь Васька знал, как зовут его благодетеля, спасшего от расправы бригадира. И очень надеялся, что технорук и сейчас не даст пропасть.
Лучинский, выслушав сбивчивый и почему-то растерянный рассказ Смидовича, первым делом отпустил Панасенко. А когда остался с завклубом наедине, не считая Васьки, конечно. Да, кто ж таких кандидатов в доходяги в расчёт берёт? Так вот, Лучинский тоже, будто и не Васька его сюда позвал, спросил вполголоса у Смидовича:
– Ты, куда, морда жидовская, парня ведёшь?
Такой бесцеремонности, если не сказать, наглости, Смидович давно не слышал даже от конвоиров, а тут! Но Лучинский не дал ему и рта раскрыть.
– Твои газетки нашли в девятом бараке. Виновный уже в карцере сидит. Нет, ну, неужели ты, Давид Абрамович, совсем отупел в своём клубе? Придумать такое! Значит, этот зэк, по-твоему, три дня назад украл пайку, и только сегодня пришёл, чтобы съесть её? Да не просто так, а злонамеренно слопать у тебя на глазах?! Иди, не позорься. Стой! Хлеб-то отдай да скажи парню спасибо, – Только тут Лучинский, наконец, повернулся к Василию: – Как тебя зовут?
– Васька. Заключённый Журавлёв. Из седьмого отряда.
– Так вот, скажи спасибо Василию, что спас тебя от посмешища. Уж начальник режима бы вдосталь посмеялся. А тебе это надо? Иди.
Васька Журавель стоял, держа в руках остатки горбушки, и ничего не понимал. Ему ещё с 41-го, когда рыли противотанковые рвы под Ростовом, врезался в память один случай. Во время обеда перед деревенскими выступал агитатор, который рассказывал о зверствах фашистов. Закончив лекцию, мужчина спросил, есть ли вопросы. И тогда один журавлёвский – Яшка Самохвалов, Васькин ровесник и почти сосед – выкрикнул:
– Чё ты пужаешь? Немец первыми жидов и комиссаров вешает, так что, жидок, о себе лучше позаботься.
Самохвалова тут же забрали, и что с ним было дальше, Васька тогда не знал. Яшка, парень, хоть и с дуриною, но не злой. В этом Василий был уверен. Ночью спросил у военрука Кондратия Степановича:
– Разве этот лектор не жид?
– Он еврей, – ответил военрук.
– А в чём разница?
– Понимаешь, Василий, – сказал старый учитель, – еврей – это национальность, а жид – кличка ругательная.
– А как же Гоголь? – опешил Васька. Он хоть и ушёл из шестого, недоучившись, но книги любил. А «Тараса Бульбу» читал и плакал.
– Гоголь этого ещё не знал. Спи, Васька, не морочь голову. Завтра рано вставать.
– Что же ты, Василий, хлеб не ешь? – Вернул Журавлёва к действительности технорук. – Да объясни, кстати, откуда он у тебя. А то ведь я заступился, а ничего не знаю. Надеюсь, ты его не украл? – Технорук похлопал Ваську по плечу. – Нет, ты съешь сначала и пойдём со мной.
Васька молча съел хлеб, и побрёл за Лучинским в сторону штабного барака, недоумевая, зачем понадобился всесильному техноруку. Лишний раз появляться в штабе, где находился, между прочим, и кабинет оперуполномоченного зоны, для рядового зэка было не с руки. Увидят и могут подумать, что стучать ходил. Но Журавлёв был с техноруком, да и работа у парня какая? Не на мерина же своего Серко он стучать ходил?
В тёплом и просторном кабинете технорук первым делом распорядился, чтобы сделали чаю. Когда за дневальным закрылась дверь, Лучинский достал из шкафчика на стене сахар, масло белый хлеб и баранки. Васька совсем потерялся, а технорук, намазав и пододвинув к нему большой ломоть хлеба, сказал:
– Вечно у меня времени не хватает, чтобы довести дело до ума. Вот и тебе помог тогда, и забыл. А ты вон, в доходяги уже готов записаться. – Технорук попытался улыбнуться и тем самым подбодрить гостя. Но у него это плохо получилось. И Василий увидел, что Лучинский – старый и очень усталый человек. Пожалуй, много старше Васькиного отца.
– Извини, – вновь скривил губы технорук. – Хотел вот пошутить, да шутка неудачная. Хлеб ты не украл, я верю. Остальное, не существенно. Надо тебя, Василий, к серьёзному делу пристроить. Срок-то впереди ещё большой. А нам специалисты нужны. Пойдёшь учеником пилоправа. Митрич уже старый, у него зрение садится. Работа эта не тяжёлая, но кропотливая, требует точности, главное – очень ответственная. От того, как ты пилы заточишь, выработка всей смены зависит. А стране лес нужен. Нас здесь, Василий, держат взаперти, как бешеных собак. Но мы-то сами себе цену знаем, правда? Не переживай, ты справишься. Должен справиться. Вот, пожалуй, и всё, что я хотел тебе сказать. А теперь ешь, пей чай, баранки московские, жена прислала. Да ты не стесняйся.
Василий, прожёвывая хлеб, что-то пробормотал неразборчиво и принялся за чай. Лучинский тоже пил. Оба чувствовали неловкость. Оба молчали. Благодарить словами Васька не умел, а делом – это время покажет.
Технорук встал первым, велел Ваське забрать оставшиеся баранки. И, уже подойдя к двери, сказал:
– Да, пожалуй, чтобы ты голову себе не ломал над давешним инцидентом со Смидовичем, поясню. Я его правильно назвал. Это я – еврей, а он – жид пархатый. Привык ходы-выходы для личной выгоды искать. Такие, как он, только нацию нашу позорят. Впрочем, о происшествии я тебя попрошу не распространяться. Договорились? Ну, иди. Завтра с утра подойдёшь к пилоправу. А возчика найдём, я Ручиса ещё сегодня предупрежу.
Васька шёл в свой седьмой барак и думал: «Ну, и денёк сегодня! Хоть в день рождения его себе записывай. Да нет уж, мамка ведь сказала, что в жнитво…
***
Заявитель: Трущелев Юрий Васильевич
Регион: Ростовская область, г.Аксай
ТРУЩЕЛЁВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1923 году в селе Мараза Шемахинского уезда Бакинской губернии – ныне это Азербайджан. В 1924 году семья Трущелёвых переселилась в Сальские степи Донской области Юго-Восточного края в основанное переселенцами село Журавлёвка. Сейчас это Целинский район Ростовской области.
В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1941 по октябрь 1942 года. Сначала прошёл месячную подготовку в учебном подразделении в станице Усть-Лабинской, а затем был отправлен на фронт красноармейцем в разведроту 203 стрелковой дивизии, которая вела боевые действия в междуречье Дона и Волги. Из-под Сталинграда по приговору тройки военного трибунала был отправлен в Унжлаг Горьковской области, где отбывал наказание по ст. 58, как «враг народа». После досрочного освобождения в июне 1952 года вернулся в село Журавлёвка, а в 1962 году переехал с женой и детьми в Аксай. В 1990 году Коллегией военного трибунала Северо-Кавказского военного округа дело было пересмотрено и приговор в отношении Трущелёва В.Я. отменён «за отсутствием в его действиях состава преступления», а Трущелёв В.Я. реабилитирован.
Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями. Умер в 2007 году, похоронен на Аллее Ветеранов на Аксайском кладбище.
ТРУЩЕЛЁВА АННА НИКИТИЧНА
Родилась в 1927 году в деревне Подолешье Мосальского района Калужской области. В годы войны от болезней и недоедания в её семье умерли братья, сестры и мать. Из девятерых детей выжили только Анна и Капитолина. Анна в 1944-м окончила семилетку, работала в колхозе и на пунктах заготзерно. Потом десять лет в колхозе – уже в Ростовской области. С 1962 до выхода на пенсию в 1983 году трудилась на предприятиях города Аксая. Награждена медалями «Ветеран труда» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Проживает в городе Аксае.
НОВЫЙ ГОД ПОД БОМБАМИ
Из воспоминаний жительницы города Аксая А. Н. Трущелёвой
(Записано в декабре 2000 года, опубликовано в районной газете «Победа» 31.01. 2001 года)
Я уже не в том возрасте, чтобы годы свои скрывать. Сейчас мне 73, и в новом веке, даст Бог, ещё поживу… А прожитое, так уж случилось, делится в моей памяти на две части. До 1952 года жила в калужской деревеньке в двухстах километрах от Москвы. Называлась она Любилово, а после войны в честь наших земляков Героев Советского Союза братьев Лунёвых деревню переименовали в Лунёво.
В 1941-м, когда началась война, мне было 14 лет и я перешла седьмой класс. Но закончить мне его удалось много позже, уже не по годам повзрослевшей, пережившей оккупацию, бомбежки, голод, смерть мамы и семерых братьев и сестёр…
Постоянного немецкого гарнизона у нас не было, деревня была в стороне от главных дорог, в лесу. Но немцев мы видели. Запомнился такой случай. Немецкая часть разбрелась по избам на постой. У нас был один из немногих в деревне большой кирпичный дом. Но и семья не маленькая: девять детей, а я – старшая. Было большое хозяйство, даже лошадь. На фронт отца не забрали по здоровью, из-за ноги, но в те дни его как раз забрала проводником с нашей лошадью и подводой отступающая советская часть.
К нам в дом ввалились четверо немцев. Гогочут, что-то возбуждённо обсуждают, довольные: до Москвы рукой подать, скоро война кончится. У них были свои продукты, и выглядели они хорошо – сытые, справно одетые, но всё равно, видимо, хотелось домашней добавки к казённым харчам, и старший подступился к маме:
- Матка, яйко давай, млеко!
Мама показала на маленьких детей, которые испуганно смотрели, кто с печи, кто с полатей, и попыталась объяснить, что яичек и молока даже им не хватает. Но фриц не слушал её и говорил что-то по-своему. Из всего его лопотания можно было понять только, что, если не даст, нам всем будет плохо.
- Пух-пух, - показывал солдат на спрятавшихся на русской печи малышей и при этом улыбался. Но мама испугалась и кинулась к двери, чтобы достать схороненные в заветных местах кое-какие припасы. Пропади они пропадом, как-нибудь и на картошке перебьёмся, лишь бы детей не трогал!
В дверях она столкнулась с ещё одним немцем. О том, что это был большой чин, мы догадались по поведению наших незваных гостей. Они все вскочили и, вытянувшись, замерли, поедая глазами начальство.
Офицер осмотрел дом, прошёл в наступившей тишине к печи, долго смотрел на притихших малышей и, резко повернувшись, что-то скомандовал. Солдаты мигом вымелись из избы, прихватив свои пожитки и на ходу надевая шинели. Офицер вышел за ними, но скоро вернулся и положил на стол несколько плиток шоколада и печенье в пачке…
- Для детьи, - он с трудом подбирал русские слова. Потом достал из внутреннего кармана бумажник, показал маме фотокарточку.
- Майне фрау унд киндер – жена и детьи… Война – плёхо. Гитлер и Сталин – плёхо. Детьям нужен мир, жить без война… - и ушёл. К нам больше никто не заходил.
Скоро фронт продвинулся к Москве. Уже не было слышно орудийной канонады, только самолёты по нескольку раз на день, пролетая высоко над деревней. Немцев у нас уже не было. Они назначили новую власть: старосту и полицаев из местных, обязав их следить за порядком и, главное, исправно поставлять для Германии обозы с продуктами. Но у полицаев тоже не было спокойного житья и полной власти. Прямо за деревней лес, знаменитый Мосальский бор, протянувшийся на сотню километров. А там, в глухих болотах, из наших окруженцев формировались партизанские отряды. Вскоре по тылам пошли и регулярные части: конные отряды генералов Белова и Доватора.
31 декабря 1941 года и к нам в Любилово зашёл отряд кавалеристов. Командир расположился в нашем доме. Молодой, весёлый, подмигивает мне:
- Ну, что, курносая, танцевать любишь? Вечером будем праздновать Новый год. Зови подружек.
Отец наш всё бурчал на него:
- Какая вы, к чертям, разведка! Лошадей возле изб побросали! Не видишь, что ли, как самолёты фашистские крутятся?
- Спокойно, папаша, фрицам сейчас не до нас. Им под Москвой жару дают! Станут они с вашей деревенькой связываться…
Командир позвал несколько бойцов (на слово «солдат» они обижались: солдаты у фашистов). Появились банки с тушёнкой, колбаса и всякие диковинные продукты, захваченные у немцев. Я с соседскими девочками чистила картошку. Потом бойцы принесли откуда-то патефон, пригласили взрослых девчат.
Обычно бомбёжки и артобстрел мы пережидали в погребах, которые находились в отдалении от изб, в огородах. А в ту ночь бомбить стали так неожиданно и сильно, что все растерялись. Не только мы, гражданские, но и бойцы отряда. Я упала на пол возле стены, как нас учили в школе. Сразу же посыпались стёкла. Видимо, бомба взорвалась совсем рядом. С улицы доносились крики, ржанье лошадей, беспорядочная стрельба…
Я очнулась, когда почувствовала на себе горячее дыхание – в дом со страху забежала лошадь осёдланная. Крыльцо и входную дверь разнесло взрывом, крыша загорелась. Кто-то из бойцов вынес меня и положил прямо на снег. Горел не только наш дом – вся деревня. Я поняла, что совершенно невредима, только чуть стеклом порезалась и плохо соображала. Не помню, как добралась до погребов, где уже были родители с малышами. Их ещё днём отправили к бабушке.
Так мы и жили потом: кто в погребах, кто в землянках. А весёлого командира кавалерийской разведки разнесло в клочья прямо с лошадью…
В 1952 году я вышла замуж и переехала к мужу в Ростовскую область. Сначала жили в селе Журавлёвка, а в 1962-м в Аксай переехали. Здесь и прошла моя жизнь. Растили сыновей, нянчили внуков… Пошли на пенсию. Живём потихоньку. Вот и век, говорят, кончился, новый пришёл. А я всё чаще вспоминаю свою далёкую родину, дом, который так и не отстроили. Вспоминаю своих погибших родных: маму, братишек, сестрёнок… и, вскоре после войны, отца. Всех, кого оставила в уходящем веке.
P.S. Анна Никитична Трущелёва умерла 12 апреля 2012 года, похоронена на Аллее Ветеранов Аксайского городского кладбища рядом с мужем – ветераном Великой Отечественной войны Василием Яковлевичем Трущелёвым.

Дед Никита Базыков и мама Анна Никитична Базыкова (Трущелева), на руках у деда мамина сводная сестра Тоня, это примерно 1950 - 51 годы.

Мама. Эту фотографию она послала отцу в лагерь - они, как тогда называли, заочники - познакомились по переписке, а зарегистрировались официально в июне 1952 года.

Анна Васильевна, Яков Васильевич Трущелевы и мать дедушки Надежда (отчество не знаю), это примерно 1926 год, на руках у деда мой отец, а у бабушки - дядя Володя.